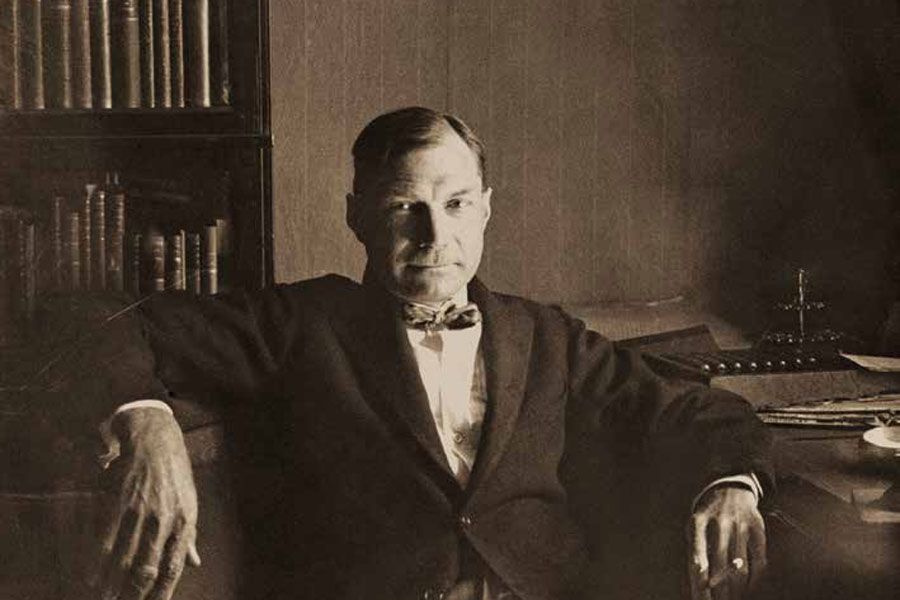В сентябре 2021 года на вручении премии журнала GQ известный российский писатель Дмитрий Глуховский в своей довольно смелой для современной России речи назвал книгу Джорджа Оруэлла «1984» самой популярной из продаваемых за последние несколько лет. Действительно, этот роман можно считать наиболее известной антиутопией ХХ века. Изданный в 1949 году, уже после того, как мир узнал и об ужасах фашизма, и о сталинских репрессиях против собственного народа, «1984» был воспринят читателями как предупреждение человечеству о чудовищной опасности тоталитарного государства, об ответственности за переписывание истории и нежелание извлекать уроки из прошлого. Но все же первой антиутопией принято считать роман Евгения Замятина «Мы» — книгу «о бунте природного человеческого духа против рационального, механизированного, бесчувственного мира».
Точная дата создания романа неизвестна, чаще всего исследователи творчества Замятина называют 1919—1921 гг. В 1921 году писатель предложил рукопись издательству Гржебина в Берлине и издательству «Алконост» у себя на родине. Книга была переведена на несколько иностранных языков, в том числе и на чешский, а вот в России увидела свет только в 1988 году, поскольку при жизни писателя его произведение воспринималось как сатира на существующее социальное устройство советской страны. Джордж Оруэлл был хорошо знаком с романом Замятина и в своей рецензии отмечал, что его обязательно нужно перевести на английский язык. Безусловным достоинством «Мы» он считал «интуитивное раскрытие» автором «иррациональной стороны тоталитаризма — жертвенности, жестокости как самоцели, обожание Вождя, наделенного божественными чертами». Он также отметил, что «вполне вероятно, <...> Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры <...>. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация <...>. Это исследование сущности Машины — джинна, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад».
Замятин был свидетелем и участником происходивших в России перемен и как писатель чувствовал необходимость поиска новых путей в искусстве, новых литературных форм: «Старых, медленных, дормезных описаний нет: лаконизм — но огромная заряженность, высоковольтность каждого слова <...>. И искусство, выросшее из этой, сегодняшней, реальности, — разве может не быть фантастическим?..» Именно это желание «показать», а не «объяснять» придало роману «Мы» оригинальность, сделало его чрезвычайно популярным.
«Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели»
Роман «Мы», по сути, дал направление развитию целого жанра — антиутопии. Ориентированная на занимательность, антиутопия использует прием фантастики, создавая иную реальность. Но эта фантастическая реальность оказывается очень узнаваемой для читателя, поскольку произведение обращено к проблемам сегодняшнего дня.
Основной конфликт в антиутопии, как правило, возникает между государством и личностью, не желающей жить по заранее сформулированным правилам и безоговорочно их принимать. Герой романа «Мы» на первый взгляд кажется неотъемлемой частью огромной машины под названием Единое Государство. Он пишет записи-конспекты о его мощи и силе, поскольку по призыву Благодетеля «всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды и иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». Приступая к записям, Д-503, математик и строитель космического корабля Интеграл, чувствует, как у него от восторга «горят щеки»: он мечтает «разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — ассимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий».
Жизнь в математически совершенном обществе, по мнению автора записок, не может быть несовершенной, и доказательство тому — Часовая Скрижаль, «сердце и пульс Единого Государства», которая полностью регулирует и регламентирует жизнь граждан-нумеров. Он недоумевает, как люди жили «в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии <...> без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову», а «на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили». По его мнению, люди прошлого, находившиеся «в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада», не были счастливы: им никто не объяснил «вечного, великого хода всей Машины». Когда-нибудь и так называемые Личные Часы (а их у нумеров всего два в сутки) войдут в Часовую Скрижаль, и вот тогда не будет никакого Я, только МЫ, олицетворяющие «математически безошибочное счастье», где «никто не один», но «один из».
В Едином Государстве, отгородившемся от пока еще живого мира Зеленой Стеной, все едино: и Единая Государственная Наука, которая не может ошибаться, и Единая Государственная Газета, внушающая жителям одинаковые мысли, и День Единогласия, когда, конечно же, единогласно избирается Благодетель (разумеется, его кандидатура является единственной). По улицам маршируют нумера, «не омраченные безумием мыслей», потому что не принадлежат себе, своему Я. Они осознанно отказались от свободы выбора, подчинили себя власти государственной машины. Подтверждение этому — одетые в «кованую, блестящую броню» слова Благодетеля: «...о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, — и потом приковал их к этому счастью на цепь». Вот она, мечта властвующего — получить в свое полное распоряжение миллионы недумающих, покорных, ослепленных ложной идеей людей!
Д-503 пишет о том, что Единое Государство подчинило себе Голод, изобретя нефтяную пищу, а потом «повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец и та стихия была тоже побеждена <...>. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий — у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась».
Но не все так безоблачно и радостно, как может показаться на первый взгляд, не все может объяснить логика. Именно в любви человек проявляет свое Я и именно благодаря любви осознает себя как личность. Любовь к I-330 меняет героя, заставляет усомниться в прописных истинах, которые он раньше не подвергал сомнению, почувствовать свою связь с теми самыми «дикими людьми», чьи поступки вызывали у него смех и недоумение, понять, что все-таки все люди разные. В его груди «тесно, не хватает места». Любовь даже заставляет его ревновать, а ревность сродни зависти, в Едином Государстве это атавизм. Оказывается, у героя «образовалась душа» — «это странное, древнее, давно забытое слово». «Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...» — удивленно спрашивает он и получает ответ доктора: «По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии». Значит, их много — нумеров, сохранивших в этом единообразном мире часть себя!
Но справиться со своим новым Я (не частью МЫ, а совсем другим!) герою не под силу, особенно после слов Благодетеля, что его возлюбленной, врагу Единого Государства, он был нужен только как строитель Интеграла. Отчаявшийся и сломленный любовью, причинившей ему страдания, Д-503 решается на операцию по удалению фантазии: «Все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть». Теперь он спокойно может наблюдать за тем, как казнят «эту женщину», и уверен, «что разум должен победить».
«Личное сознание — это только болезнь»
В антиутопии вообще, и в романе Замятина в частности, женщины как героини оказываются намного сильнее и решительнее мужчин. Например, Д-503 немного снисходительно рассказывает о своей «интимной» подруге О-90, отмечая ее «круглую, пухлую складочку на запястье руки», какие бывают у детей. Ему кажется смешным разговор о весне, нелепой — веточка ландышей в ее руках. Когда она с гордостью говорит I-330 о том, что Д-503 «записан» на нее, герою хочется, чтобы она замолчала, потому что у нее «неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот». Читатель — а не герой! — понимает, что так проявляется ее любовь. Но именно наивная и на первый взгляд нерешительная О-90, «не дотягивающая до материнской нормы», найдет в себе силы уйти за Зеленую Стену, чтобы родить ребенка и на свободе от запретов и оков Единого Государства узнать счастье материнства, в котором ей отказано. Это бунт ее Я против нелепых норм.
Сильной и решительной оказывается и возлюбленная героя I-330, готовая идти на смерть ради всеобщего счастья: «Вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню». Именно она приводит Д-503 в Древний Дом, благодаря ей герой впервые оказывается за Зеленой Стеной, слушает музыку Скрябина. I-330 убеждает героя в том, что важны «только разности — разности — температур, только тепловые контрасты — только в них жизнь». Она оказывается сильнее многих мужчин, членов организации МЕФИ, и не произносит ни слова перед казнью. И это тоже ее бунт против желания Благодетеля полностью подчинить человеческую личность интересам Единого Государства.
Как еще может проявить себя личность в государстве тотального контроля и слежки всех за всеми? Безусловно, в творчестве, в отношении к искусству как проявлению иррационального в человеке. Но в том-то и дело, что поэты и писатели заняты только одним — прославлением Благодетеля, они «счастливейшее среднее арифметическое» в обществе, где нет гениев, где само понятие творчества заменено понятием пользы. Не случайно в своих записях Д-503 называет вкусы древних людей «дикими»: их поэтов вдохновляли облака — «эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся кучи пара», в то время как он любит «стерильное, безукоризненное небо». Наблюдая за движением станков, он потрясен красотой «этого безукоризненного машинного балета», потому что «весь глубокий смысл танца в абсолютной эстетической подчиненности, идеальной несвободе». Творческая природа человека, его желание выразить себя воспринимается как болезнь, если идет вразрез с представлением государственной машины о том, каким творчество должно быть.
«Живая душа жизни требует, живая душа не послушается механики»
С древнейших времен люди пытались себе представить, каким будет будущее человечества, как сложатся отношения между человеком и государством и есть ли оно, это идеальное государство. Платон в диалогах о государстве стремился математически осмыслить наилучшие условия для процветания идеального общества, в котором, кстати, должна быть допустима лишь та поэзия, польза которой очевидна. Свои утопии (букв.: «место, которого нет») подарили миру и Томас Мор, и Томмазо Кампанелла, и даже Николай Гаврилович Чернышевский (четвертый сон Веры Павловны, героини романа «Что делать?»). Идеи равенства, братства и социальной справедливости легли в основу многих государственных идеологий, но жестокий ХХ век показал, как заблуждалось человечество, пытаясь реализовать утопию на практике. Любая подобная попытка приводила к «насильственной уравниловке», к выпрямлению «чудовищными методами <…> неровностей человеческой души». Именно поэтому и появились антиутопии, в которых нашла отражение «тревога писателей-гуманистов по поводу тех опасных, пагубных и непредвиденных последствий, которые связаны с построением общества будущего». Евгений Замятин предвидел, как опасно противостояние человеческой личности и государства, желающего любой ценой подчинить ее себе и своим — увы, не всегда гуманным! — интересам. По мнению писателя, человечеству грозит «двойная опасность» — опасность «гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства».